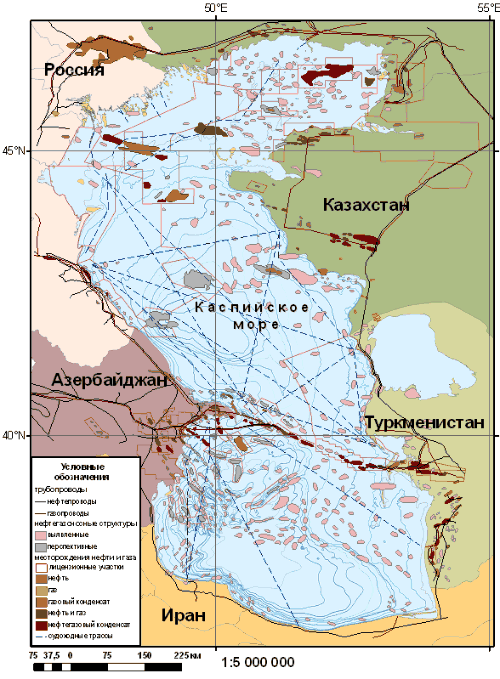
Практически со времен распада Союза ССР не утихают споры между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном вокруг определения правового статуса и раздела дна и вод Каспийского моря. За это время состоялись многочисленные встречи и переговоры на двух- и многостороннем уровнях.
Однако рассматриваемый вопрос до сих пор далек от своего разрешения.Судя по всему, как необходимость решения каспийского вопроса, так и его затягивание не случайны. Уже в конце прошлого века значение Каспия довольно быстро переросло масштабы прибрежных государств и перешло на глобальный уровень. Это, прежде всего, связано с большими запасами углеводородного сырья, сконцентрированными в разных зонах моря, и огромной потребностью в них развитых стран мира. По некоторым оценкам, доказанные и частично разведанные потенциальные запасы нефти Каспия составляют 48 млрд. баррелей, а природного газа – 8,2 трлн. кубометров.
Каспий является также кладезем уникальных биоресурсов. Так, в нем сосредоточено 90 % мировых запасов осетровых рыб, дающих не менее важный для потребления и экспорта товар – икру. Наконец, Прикаспийский регион, представляя собой разветвленную сеть морских, сухопутных и трубопроводных маршрутов, выступает как стратегически ценный транспортно-коммуникационный участок Евразии.
В связи с этим пять прикаспийских стран, с одной стороны, заинтересованы поскорее определиться, кому и что здесь принадлежит. А с другой - никто из них не хочет быть обделенным. Поэтому каждая из стран имеет собственные позиции, цели и интересы в контексте решения данного вопроса. К тому же в большой геополитической «игре» вокруг Каспия и его углеводородных ресурсов активно участвуют внешние акторы, включая США, Евросоюз, Турцию и Китай. Все это давно перевело вопросы поиска, освоения, эксплуатации потенциальных месторождений углеводородов, а также экспорта последних на мировые рынки из чисто экономической плоскости в политическую.
Относительно правовых аспектов данного вопроса нужно отметить, что прикаспийские страны не пришли к единому мнению о том, чем является Каспий – морем или озером. В связи с этим они не могут апеллировать к нормам международного морского права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Еще сложнее обстоит с вопросом определения частей моря, находящихся как в общем пользовании, так и – особенно – национальной юрисдикции каждой из пяти стран.
Азербайджан и Казахстан, обладающие солидными запасами углеводородов в своих прибрежных и шельфовых зонах, изначально выступали за раздел Каспия по национальным секторам. Иран и Россия же настаивали на принципах совместного использования моря. Затем в 1996 году Россия выдвинула предложение о выделении каждому из прикаспийских государств 45-мильных секторов с созданием в центральной части моря зоны, совместно используемой и управляемой по принципу кондоминиума. Туркменистан, чья позиция сперва была близка к ирано-российской, затем пожелал иметь свой национальный сектор Каспия.
Первый саммит названных стран на уровне их президентов прошел 23-24 апреля 2002 года в Ашхабаде. К этому моменту их позиции заметно изменились. Азербайджан, Казахстан и Россия предложили разделить дно Каспия по принципу серединной линии, которая в дальнейшем может модифицироваться по договоренности сторон, а водную поверхность моря оставить общей. Как уточнил президент РФ Владимир Путин: «Делим дно, вода – общая». Данный принцип предполагал, что Азербайджану достанется 20-21%, Казахстану – 29%, России – 19%, Туркменистану – 17-18%, Ирану –14% дна Каспия. Что касается спорных месторождений нефти и газа, то их было предложено делить по принципу «50 на 50». Это значит, что одна сторона, к которой данные месторождения отойдут, компенсирует другой, уже освоившей их, половину ее затрат.
Туркменистан выступил за установление 15-мильной прибрежной зоны и 25-мильной экономической зоны. Тем самым предполагалось передать в юрисдикцию каждого государства 40 миль. Иран же предложил на выбор либо использовать море совместно по принципу кондоминиума, либо разделить его поровну с предоставлением каждому государству по 20% дна и акватории. Он также выступил против уже активно идущего освоения каспийских энергоресурсов до определения правового статуса Каспийского моря.
Понятно, что Иран не устраивало предложение большинства участников саммита, поскольку по схеме срединной линии он получил бы самую меньшую и к тому же, по некоторым оценкам, не особенно богатую углеводородными ресурсами часть моря. Туркменистан же выразил претензии на спорные с Азербайджаном месторождения Азери, Кяпаз и Чираг. Поэтому в данной обстановке участники саммита даже не смогли принять итоговый документ, отражающий их общие точки зрения. Тем не менее уже сам факт проведения впервые такого мероприятия с участием глав всех прикаспийских стран имел большую политическую значимость для развития переговорного процесса.
Отдельно нужно отметить, что до и после этого саммита Азербайджан, Казахстан и Россия подписали и ратифицировали:
1) Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года, а также Протокол к нему от 13 мая 2002 года;
2) Соглашение между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о разграничении дна Каспийского моря между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой от 29 ноября 2001 года, а также Протокол к нему от 27 февраля 2007 года;
3) Соглашение между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря от 14 мая 2003 года.
В результате эти три государства установили между собой морские рубежи по принципу срединной линии. Россия и Казахстан также договорились о разделе и совместном освоении ранее спорных нефтяных месторождений – Курмангазы, Центральное и Хвалынское. Первое из них отошло в юрисдикцию Казахстана, два остальных – России.
Таким образом, фактически оказалась разделенной северная часть Каспия. Тогда как проблемной с точки зрения неопределенности остается южная территория моря, где сходятся интересы Ашхабада, Баку и Тегерана. У Казахстана же единственным неопределенным участком морских рубежей является его граница с Туркменистаном. Но в то же время каких-либо споров и конфликтов по этому поводу между двумя странами до сих пор не проявлялось. Вместе с тем с критикой по поводу указанных выше договоренностей выступил Иран, настаивая на решении каспийского вопроса исключительно в пятистороннем формате.
Второй каспийский саммит прошел 16 октября 2007 года в Тегеране и завершился подписанием итоговой декларации. Сохранив свое мнение по поводу раздела Каспия, стороны вместе с тем пришли, в частности, к необходимости совместной выработки и принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского моря как базового документа. Они также договорились о своих, как прибрежных стран, суверенных правах в отношении моря и его ресурсов и обеспечении режимов судоходства, рыболовства и плавания судов только под их флагами. Важными также стали положения о мирном характере использования Каспия и решения здесь всех вопросов, а также о недопущении прикаспийскими странами использования своих территорий другими государствами для совершения агрессии и других военных действий против любой из них.
Третий саммит глав прикаспийских государств состоялся в Баку 18 ноября 2010 года. В отличие от предыдущих саммитов его результаты позволяют говорить о серьезном продвижении пяти государств в сторону решения каспийского вопроса.
Во-первых, участники приняли решение поручить соответствующим ведомствам в трехмесячный срок обсудить и согласовать ширину национальной зоны, исходя из 24-25 миль, с включением водного пространства, на которое будет распространяться суверенитет прибрежного государства. В данном случае речь идет о ширине и режиме национального морского пояса.
Во-вторых, было принято решение относительно проведения на регулярной, причем ежегодной, основе саммитов глав прикаспийских государств, а также продолжения работы Специальной рабочей группы (СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и проведения других встреч на уровне представителей внешнеполитических ведомств пяти стран. Это позволило активизировать переговорный процесс.
В-третьих, президенты пяти стран подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, которое регулирует вопросы борьбы с терроризмом, организованной преступностью, контрабандой оружия, наркотиков и ядерных технологий, захватом судов, нелегальной миграцией, незаконной добычей биоресурсов и т.д. И хотя оно не касается вопросов военного сотрудничества, тем не менее на его основе в перспективе можно будет попытаться сформировать систему обеспечения коллективной безопасности в Каспийском регионе.
В-четвертых, в ходе саммита были также рассмотрены и решены важные вопросы экологического характера, включая согласование протоколов к принятой в 2003 году Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря – по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью. Кроме того, участники поддержали предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и приняли решение поручить соответствующим ведомствам в течение трех месяцев обсудить и подготовить предложения о механизме введения моратория сроком на 5 лет на вылов различных видов осетровых рыб в Каспийском море.
Безусловно, сосредоточение прикаспийских стран не только на установлении правового статуса и осуществлении раздела моря, но и на развитии многостороннего взаимодействия по вопросам экологии, судоходства, безопасности и т.д. способствует сохранению в Каспийском регионе атмосферы добрососедства и конструктивного сотрудничества. Важно также, что эти страны продемонстрировали свое единодушие в том, что только они ответственны за ситуацию в регионе.
Впоследствии процесс реализации достигнутых на третьем саммите договоренностей в силу различных обстоятельств затормозился. Прежде всего, четвертый каспийский и последующие саммиты в течение 2011-2013 гг. проведены не были. Свое предложение о пятилетнем моратории на вылов осетровых Казахстан фактически реализует самостоятельно, в одностороннем порядке. Наконец, отсутствуют межгосударственные механизмы, ориентированные на выполнение Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море и обеспечение взаимодействия прикаспийских стран по его ключевым направлениям.
Не получила также своего развития идея относительно создания Организации каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС). Она была озвучена на втором каспийском саммите президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом. Затем продвижением и популяризацией этой идеи активно занялась Россия. В частности, тема создания ОКЭС поднималась в ходе проведенной 3 октября 2008 года в Астрахани межправительственной экономической конференции вице-премьером РФ Виктором Зубковым. А в ходе 24-го заседания СРГ, прошедшего 23-24 декабря того же года в Астане, Казахстан выразил поддержку этой инициативе и намерение приступить к проработке вопроса о создании ОКЭС.
Однако позднее каких-либо конкретных шагов в данном направлении со стороны прикаспийских стран не наблюдалось. Хотя представляется, что возможное создание ОКЭС будет иметь не столько экономическое, сколько политическое значение. В частности, в его рамках прикаспийские страны смогли бы более интенсивно уладить спорные вопросы, в том числе по пограничным месторождениям нефти и газа, и сблизить свои позиции по различным аспектам каспийского вопроса.
В настоящее время основной акцент в процессе взаимодействия прикаспийских стран делается на периодически проводимые заседания СРГ. Последнее на данный момент, 35-е, заседание группы состоялось 29-30 января этого года в Астане. На нем состоялось предметное обсуждение и согласование проекта итогового документа четвертого каспийского саммита, который договорились провести в течение 2014 года в Астрахани. Участники также договорились ускорить проработку документов, находящихся в процессе подготовки, включая проект Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.
В целом очевидно, что каждая из прикаспийских стран заинтересована в создании четких и стабильных «правил игры» в Каспийском регионе. Но при этом они не забывают и о своих национальных интересах, стремясь извлечь для себя всевозможные политические и экономические выгоды. Поэтому все лавируют в той или иной степени между общим и частным. Особенно это видно по деятельности в сфере разведки, добычи и экспорта углеводородов, включая конкуренцию трубопроводов.
В частности, для Казахстана основным направлением экспорта своей нефти является российское, в рамках которого действуют нефтепроводы Узень – Атырау – Самара и Тенгиз – Новороссийск, больше известный как нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Первый из них находится в ведении АО «КазТрансОйл», являющейся дочерней структурой Национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ). По нему казахстанская нефть, добываемая на Узеньском месторождении, через систему российской компании «Транснефть» уходит в Европу. За 2013 год здесь было прокачано 15 млн. 376 тыс. тонн нефти.
Согласно Плану совместных действий Казахстана и России на 2009-2010 годы, утвержденному по итогам прошедшей 19 декабря 2008 года в курортной зоне «Бурабай» (бывшее Боровое. –А.Ч.) встречи президентов двух стран, было принято решение о необходимости расширения пропускной способности нефтепровода Узень – Атырау – Самара до 25 млн. тонн. Ожидается, что проект данного расширения будет реализован к 2016 году. При этом казахстанская сторона предложила «Транснефти» транспортировать нефть с месторождения Кашаган, процесс добычи на котором стартовал 11 сентября 2013 года, с последующей прокачкой в порт Новороссийск.
В КТК крупными акционерами являются Россия (31% акций) и Казахстан (19%). В консорциуме через дочерние структуры также участвуют такие ведущие зарубежные добывающие компании, как Chevron, Shell, ExxonMobil, Eni и British Gas. В октябре 2008 года акционеры консорциума приняли решение о расширении КТК. 1 июля 2011 года в Атырау прошла церемония, посвященная началу соответствующих строительных работ. Их завершение планируется в 2014 году. Это предполагает увеличение пропускной способности КТК с текущих 28 до 67 млн. тонн нефти в год. Основным поставщиком для КТК является СП «Тенгизшевройл» (ТШО), добывающее нефть на месторождении Тенгиз. Причем ведущими акционерами здесь выступают все те же американские компании Chevron (50%) и ExxonMobil (25%). В то же время консорциум рассчитывает и на получение в перспективе кашаганской нефти.
Поскольку в рамках обоих маршрутов экспорта нефти, добываемой в казахстанском секторе Каспийского моря, присутствует ОАО «АК «Транснефть», не исключено, что именно она во многом и будет определять нефтепровод, который примет нефть с Кашагана. Вместе с тем в свете последних событий вокруг Украины и воссоединения с Россией Крыма имеется риск того, что в случае ужесточения политико-экономических санкций со стороны США и Евросоюза в отношении РФ их могут поддержать западные компании, участвующие в КТК, ТШО и международном консорциуме North Caspian Operating Company (NCOC), осваивающем Кашаган. В какой форме это может выразиться, сказать трудно. Но если данные компании все же примут участие в санкциях против России, то под угрозой могут оказаться проекты расширения КТК и транспортировки кашаганской нефти в российском направлении. Хотя, с другой стороны, от подобных шагов их могут удержать как нежелание рисковать своими экономическими интересами, включая потерю прибыли, так и регулирующее воздействие на зарубежных инвесторов со стороны правительства Казахстана.
Фактическим конкурентом КТК выступает нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Ведущими акционерами здесь являются британская компания BP (30,1%) и Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) (25%). В настоящее время по БТД прокачивается нефть с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и газовый конденсат с месторождения «Шах-Дениз». С начала эксплуатации нефтепровода в июне 2006 года по 1 января 2014 года по нему прошло около 235,3 млн. тонн азербайджанской нефти.
При содействии структур ЕС акционеры БТД привлекли к участию в нем Туркменистан. С июля 2010 года нефть, добываемая ирландской компанией Dragon oil на каспийском шельфе данной страны, экспортируется по БТД в рамках контракта с дочерней структурой ГНКАР-SOCAR Trading. Всего с указанного времени и до 1 октября 2013 г. по БТД прокачано 9409,702 тыс. тонн туркменской нефти. Сложнее оказалась ситуация с Казахстаном, который официально присоединился к БТД, подписав в июне 2006 года соответствующий договор с Азербайджаном. Первая партия казахстанской нефти, добытой на месторождении Тенгиз, прошла через нефтепровод в октябре 2008 года. А в 2009 году ее объем здесь составил 1,9 млн. тонн.
Однако в феврале 2010 года СП «Тенгизшевройл» прекратило поставки нефти по БТД вследствие разногласий с его владельцем в лице международного консорциума BTC Co относительно размеров тарифа на транспортировку. Поскольку Казахстан не входит в состав акционеров этого нефтепровода, то для него соответствующий тариф был повышен с 4 до 5,5 доллара США за баррель. Астана выразила готовность возобновить поставки тенгизской нефти по БТД при достижении договоренностей о приемлемом тарифе на ее транспортировку. Судя по всему, стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению, так как в октябре 2013 года было объявлено о возобновлении ТШО прокачки тенгизской нефти по БТД. При этом в текущем году Казахстан намерен экспортировать через указанный нефтепровод 4,5 млн. тонн нефти.
Таким образом, прорисовывается следующая линия геополитического разлома на Каспии сквозь призму указанных нефтепроводов: Казахстан – Россия (КТК), с одной стороны, и Азербайджан – Туркменистан (БТД) - с другой. При этом участие Казахстана в обоих нефтепроводных маршрутах способно внести некоторую напряженность, поскольку именно его нефть необходима для расширения КТК. Тем более что в силу технических обстоятельств добыча нефти на Кашагане приостановлена чуть ли не сразу после ее начала и по заявлению премьер-министра РК Серика Ахметова возобновится ориентировочно в конце I полугодия или в начале II полугодия 2014 года.
Причем в процесс указанного разлома вовлечены США, ЕС и Турция, которые через свои официальные структуры и работающие на Каспии компании стремятся оказывать всевозможное влияние на те или иные прикаспийские страны. Поэтому конкуренция между КТК и БТД все больше и больше переходит в плоскость политического соперничества между Россией и Западом. Особенно активно эта борьба идет за влияние на Казахстан с явными преимуществами для России, которая связана с ним стратегическим партнерством как по линии двусторонних отношений, так и в рамках евразийской интеграции. Так, в августе 2013 года Федеральной службой по тарифам РФ было заявлено о том, что транспортировка транзитной нефти с территории Казахстана будет осуществляться по тарифам для российских грузоотправителей. добившись тем самым от Москвы решения в свою пользу довольно важного для нее вопроса, Астана при всех ее многовекторных колебаниях вряд ли займет сторону оппонентов первой. Кстати, официальная позиция Казахстана в отношении Крыма также свидетельствует об этом.
Неоднозначная ситуация наблюдается и по линии экспорта за рубеж каспийского газа. Так, проект строительства Прикаспийского трубопровода, о чем договорились 12 мая 2007 года в городе Туркменбаши президенты Казахстана, России и Туркменистана, до сих пор не получил своей реализации. Скорее всего, во многом на это повлияли последствия «газового конфликта» между Ашхабадом и Москвой в 2009 году, когда случившаяся в апреле того года авария на участке газопровода Средняя Азия – Центр и последующие выяснения отношений сторон привели к длительному прекращению поставок туркменского газа «Газпрому».
Несмотря на урегулирование данного конфликта, различные разногласия между Россией и Туркменистаном по объему поставок газа и соответствующим тарифам время от времени проявляются. При этом Туркменистан, и без того дистанцирующийся от России и ее политико-экономических инициатив и проектов, стал максимально ориентироваться в газовом вопросе на Китай. Речь идет о газопроводе Туркменистан – Китай, запущенном 14 декабря 2009 года. При этом в соответствии с договоренностями между «Туркменгазом» и China National Petroleum Corporation (CNPC) последняя будет получать в течение 30 лет до 40 млрд. кубометров туркменского газа в год.
Помимо этого Туркменистан совместно с Азербайджаном был вовлечен в поддерживаемый ЕС проект строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ). Причем последний предполагался в качестве составной части известного проекта магистрального газопровода «Набукко», предназначенного для поставок азербайджанского и туркменского газа в Европу. В этой связи, к примеру, на третьем каспийском саммите президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, касаясь темы строительства ТКГ, отметил, что его прокладка по дну Каспия может осуществляться с согласия только тех сторон, через участки дна которых он будет построен. Тем самым Туркменистан фактически дал понять о недопустимости вмешательства в данный процесс, прежде всего, Ирана и России, являющихся противниками строительства газопровода.
Активное продвижение Евросоюзом данного проекта началось в сентябре 2011 года, когда Европейская комиссия получила мандат от Совета ЕС на проведение переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном о юридических аспектах строительства ТКГ. Однако, во-первых, в июне 2013 года в силу различных политических и экономических факторов проект «Набукко» потерпел откровенный провал. Во-вторых, без каких-либо официальных объяснений Ашхабад не спешит подписывать подготовленные еще в феврале 2013 года два документа по проекту строительства ТКГ, один из которых должны подписать главы Азербайджана, Туркменистана и Европейской комиссии.
Можно предположить, что Туркменистан, во-первых, не желает обострять свои отношения с Ираном и Россией, пытаясь в связи с этим всячески лавировать между ними и своими партнерами по ТКГ. Во-вторых, на его поведение может также влиять фактор спорных месторождений нефти и газа на Каспии между ним и Азербайджаном. Поэтому не исключено, что в обмен на свое участие в проекте Ашхабад добивается от Баку положительного решения вопроса в свою пользу. В-третьих, он, возможно, рассчитывает получить и от Брюсселя максимум твердо гарантированных политико-экономических дивидендов в рамках своего участия в ТКГ, которые не спешит озвучивать публично. Наконец, в-четвертых, Ашхабад в последнее время проявляет наибольшую заинтересованность в строительстве газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). В связи с этим проект ТКГ, видимо, отходит у него на второй план.
С учетом всего сказанного сомнительно ожидать, что предстоящий четвертый каспийский саммит приведет к положительному решению вопроса о правовом статусе и разделе Каспия. Другое дело, что могут быть достигнуты договоренности по экологическим и иным вопросам, которые будут способствовать сближению «каспийской пятерки» в целом. Свое веское слово в этом плане, кстати, может сказать Иран, который не вовлечен в конкуренцию трубопроводов на Каспии. Поэтому будем надеяться, что на очередное 10-летие решение каспийского вопроса не затянется.
- Андрей Чеботарев
Источник - http://www.ritmeurasia.org