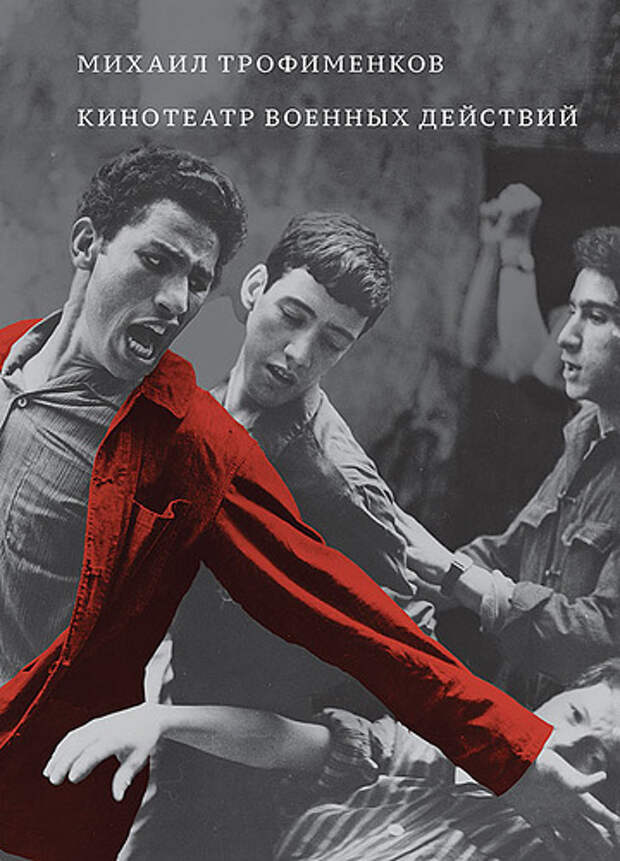
В издательстве "Сеанс" вышла книга культового петербургского кинокритика и интеллектуала Михаила Трофименкова "Кинотеатр военных действий". Автор "прослеживает общую судьбу кинематографа и борьбы за независимость во второй половине XX века, рассказывает о кинематографистах, ставших свидетелями, участниками и жертвами военных переворотов, герильи, репрессий, неоколониальных войн; о солдатах, партизанах и революционерах, ставших кинематографистами.
Масштабное полотно свидетельствует о событиях в десятках стран на четырех континентах: Алжире, Вьетнаме, Палестине, Иране, Чили, Аргентине, Франции, Италии, Германии, Японии... везде, где во имя великих идей лилась кровь и экспонировалась пленка".Михаил Трофименков написал необычную книгу. Она про «кино-войну» ― про непосредственное участие кинематографа-повстанца в освободительном движении, в политических событиях. Даже беглый взгляд на историю ХХ века не оставляет сомнений, что это был не только век кино, но и век нескончаемых войн ― мировых, гражданских, колониальных, идеологических. Буквально повсюду ― от Алжира до Японии. Трофименков пишет о войнах второй половины века, которые только кажутся менее кровопролитными, чем две мировые его первой половины. Как вели себя кинематографисты в условиях тотального фронта, кем они были, как сложились их судьбы и судьбы их персонажей ― террористов, политиков, партизан, банкиров, повстанцев, бандитов - вот сюжеты этого превосходного наброска истории не только кино, но мира в целом.
Ниже четыре фрагмента из книги - о запрещенном французском фильме "Моранбонг", снятом в Северной Корее, о приключениях американских кинематографистов Эролла Флина и его сына Шонна на Кубе после победы Фиделя Кастро и в Камбодже при Пол Поте, отрывок об операторе Монике Эртль, отомстившей за смерть Че Гевары его убийцам и фрагмент об Италии.
***
В течение четырех лет действовал запрет, наложенный министром информации Луи Тернуаром не только на прокат, но и на экспорт «Моранбонга, корейской хроники» (1959) Жан-Клода Боннардо. Режиссер не мог даже отослать копию в КНДР, хотя это был первый и до сих пор единственный опыт совместной работы северокорейских и «капиталистических» кинематографистов.
Весной 1958 года журналист Арман Гатти — вскоре он прославится как режиссер политического театра — предложил начинающему режиссеру Боннардо, своему другу по партизанскому отряду, присоединиться к делегации французских интеллектуалов, собравшейся в КНДР. Боннардо прихватил с собой камеру и 20 тысяч метров пленки, купленной в кредит: у них с Гатти брезжила смутная идея документального фильма.
Делегация добиралась до Пхеньяна через Прагу, Москву, Иркутск, Улан-Удэ и Читу. Никто не вернулся назад с пустыми руками. Крис Маркер опубликовал по возвращении альбом фотографий «Корейцы» (1959). Лемарк, автор «Песенки французского солдата», снял 40‑минутный фильм о путешествии. Журналист и будущий кинорежиссер Клод Ланцман, ближайший сотрудник Сартра по журналу Les Temps modernes, на всю жизнь сохранил воспоминания о романе с корейской медсестрой, встреченной в госпитале, куда он сопровождал Гатти, еще в Москве сломавшего руку.
А Гатти и Боннардо просто остались в Пхеньяне.
Ужиная с французскими товарищами, Ким Ир Сен загорелся идеей франко-корейского игрового фильма. Финансовое участие в проекте разоренная войной страна принять не могла — какие финансы, если даже рельсы для тревеллинга пришлось мастерить из водопроводных труб, — зато о таких человеческих ресурсах, какие предоставил Ким, даже не мечтал ни один режиссер в мире. Гатти в экстазе писал жене во Францию: «Сто тысяч актеров и фигурантов... Пхеньян ничем не отличается от Парижа».
Гатти и Боннардо написали сценарий — парафраз классической корейской любовной повести: влюбленных — не аристократа и гейшу, как в оригинале, а солдата и оперную певицу — разделяла война. Назвали же они фильм в честь театра Моранбонг, святилища национальной сцены, во время войны разрушенного американскими бомбами, но продолжавшего давать спектакли в подземном укрытии.
Боннардо закончил съемки и вернулся в Париж только в июле 1959 года, еще полгода занял монтаж. Ну а затем фильм запретили за «показ в неблагоприятном свете войск ООН»: имелись в виду эпизоды бомбежки театра и освобождения из плена северокорейцев, ожесточенно топчущих американскую униформу и одежду, выданную ООН. Правда, удалось организовать 11 мая 1960 года единственный показ во время — но не в рамках — Каннского фестиваля. Восторженная критика сравнивала «Моранбонг» с «Надеждой» Мальро.
Запрет с фильма снял в 1963 году новый министр информации Ален Пейрефит: говорят, им двигала любовь к Азии, но, наверное, свою роль сыграли и презрительные слова об ООН, как раз брошенные де Голлем.
Пикантная деталь: на Монументе идей чучхе в Пхеньяне можно увидеть мемориальную доску в честь Тернуара, приложившего недюжинные усилия для мирного воссоединения Кореи в свою бытность председателем Общества франко-корейской дружбы.
В общем-то Тернуар был героической личностью: секретарь Национального совета Сопротивления, он был арестован гестапо, выжил в Дахау. Но для кинематографистов его недолгое пребывание на посту министра информации (с 5 февраля 1960 года по 24 августа 1961 года) ассоциируется с запретом «Моранбонга», «Маленького солдата», фильма Криса Маркера «Куба — да!» (1961) «по причине рисков для общественного порядка, содержащихся в подобных произведениях». Тогда же, 18 января 1961 года, была введена еще и предварительная цензура сценариев.
***
Самым первым приветствовал победу барбудос человек, представить которого в одной «интербригаде» с Сартром и Кортасаром можно, лишь обладая сюрреалистическим воображением. А история его «романа» с Фиделем отсвечивает незамутненным безумием.
В начале 1959 года в популярной передаче Front Page Challenge канадского филиала CBS о том, что Кастро «превзошел все его ожидания», а в массовых казнях прислужников Батисты, взволновавших Америку, неповинен, поскольку «во время революции невозможно контролировать диких людей», заявил человек, по его словам, учивший Кастро искусству красноречия.
Вот в эту деталь поверить было решительно невозможно.
Любовь Эролла Флинна, лучшего голливудского капитана Блада и Дон Жуана, к Кубе не была секретом. Но любовь специфическая: при Батисте актер был завсегдатаем казино и борделей, принадлежавших, как, собственно говоря, и сама Куба, американской мафии. Флинн не был чужд и политике, но в его жизни она стояла в одном ряду с пьянством, наркоманией и опасной любовью к несовершеннолетним секс-бомбам. ФБР, собиравшее досье на Флинна, то причисляло его к тайным членам компартии, то подозревало в работе на нацистскую разведку. Его путешествие в Испанию, где он то ли вступил в интербригаду имени Авраама Линкольна, то ли просто искал приключений, а получил контузию при авианалете, трудно сочетается с рассказами о золотой свастике за отворотом его пиджака.
По данным ФБР, Флинн весной 1959 года встречался с Кастро, убеждая его отказаться от национализации ночного клуба «Сан-Суси». Сам же Флинн и его 16‑летняя пассия Беверли Аадленд расписывали, как — в последние дни Батисты — они прибыли на Кубу. Оставив девушку в отеле, Флинн исчез на пять дней, которые провел в Сьерра-Маэстре. И не просто провел, а участвовал в перестрелке и был ранен, чуть ли ни въехал в Гавану на повстанческом танке. Но самым ярким впечатлением Флинна было то, что при их знакомстве Че Гевара в упор не узнал звезду.
По этой версии, Флинн встречался с Кастро в качестве журналиста, командированного концерном Херста, но его статьи опубликованы не были. Кастро о своей дружбе с Флинном ничего не рассказывал. Но актер, какова бы ни была доля фантазии в его рассказах, «вписался» за революционную власть не на шутку. Слова о Фиделе как настоящем Робин Гуде часто приписывают Мэтьюсу, но куда органичнее они звучат, когда их вкладывают в уста звезды «Приключений Робин Гуда» (1938) Майкла Кертица и Уильяма Кейли. Пропаганде кубинской революции посвящены два последних в жизни Флинна фильма.
Делая кинокарьеру своей подружке, Флинн выступил продюсером, сценаристом — и, естественно, исполнителем главной роли — «Кубинских девушек-мятежниц» (1959) Барри Мэхоуна, своего бывшего личного пилота и менеджера, зарекомендовавшего себя затем как самого восприимчивого к новым технологиям голливудского продюсера. Забытым фильмом восхищаются, увы, поклонники трэша, сраженные зрелищем ногастой Беверли верхом на танковой пушке.
«Девушки-мятежницы» — не единственный такого рода фильм 1959 года. Совсем скоро Кастро станет для Америки исчадием ада, но, пока он не выбрал коммунистический лагерь, Голливуд успел попользоваться им. Эдвард Кан снял «Пирс № 5, Гавана» (1959), где янки, при- летевший в Гавану в поисках пропавшего друга, вместе с прекрасными сотрудниками контрразведки срывал контрреволюционный заговор. С дистанции времени кажется изумительным, что этот заговор, включавший в себя бомбежки Кубы самолетами без опознавательных знаков, кажется предсказанием Плайя-Хирон.
Вторая работа Флинна куда как серьезнее: его комментарии сопровождали документальный фильм Виктора Палена «Правда о революции Фиделя Кастро».
Флинн не дожил до премьеры обоих фильмов: 14 октября 1959 года 50‑летнего актера сразил сердечный приступ. «Девушки-мятежницы» вышли в недолгий прокат 25 декабря. «Правду о революции» показали на Московском фестивале, а в коммерческий прокат она вышла, кажется, только в ГДР.
Шона Флинна, сына Эррола, как актера не назовешь ни копией отца, ни пародией на него. Неловкость, какую-то болезненную неловкость вызывает сама мысль о том, что сын короля «плаща и шпаги» почти все, что он успел сыграть за всего-то 28‑летнюю жизнь, сыграл в итальянской халтуре худшего разбора. Если не считать его появление в 15‑летнем возрасте на папином телешоу, то дебютировал он, увы, конечно, в «Сыне капитана Блада» (1962) Тулио Демичели, усугубил «Знаком Зорро» (1963) Марио Кайано, «Пистолетами великолепной семерки» (1966) Ромоло Герьери. На таком фоне Умберто Ленци, в «Сандоке, Мацисте джунглей» (1964) которого играл Флинн, покажется Бергманом.
Сам Шон, очевидно, понимал тщету своей актерской — да и музыкальной тоже: в 1961 году он выпустил сингл — карьеры. Поэтому его лучшей «ролью» стала та роль, которую отец пытался сыграть в Испании и на Кубе, но оконфузился. В 24 года Шон стал военным фотографом — жестоким, то есть хорошим фотографом. В том, как он снимал мускулистые допросы вьетконговцев, чувствуется аппетит. Да и вряд ли бы Paris Match, Time, Life и UPI стали бы ангажировать его исключительно ради громкого имени. Впервые приехав во Вьетнам в январе 1966 года, он отлучился на съемки своего последнего фильма «Пять парней для Сингапура» (1967) Бернара Тублан-Мишеля. Очень трогательно, не правда ли: оставить настоящую войну ради того, чтобы поиграть в войнушку, вернувшись на экране почти в те края, откуда он прилетел.
Из-за съемок Шон пропустил былинное Тетское (новогоднее) наступление освободительной армии в январе 1968 года, когда партизаны ворвались в самый Сайгон и вели бой чуть ли ни на первом этаже посольства США. Зато его не упустила Камбоджа, на которую вьетнамский пожар жадно перекинулся весной 1970 года.
6 апреля Флинн и его коллега Дана Стоун, оседлав арендованные мотоциклы «Хонда» и попозировав на прощание, укатили в джунгли — делать репортаж о партизанах. По международным конвенциям, военные корреспонденты имеют право носить оружие для самообороны, не лишаясь при этом профессионального иммунитета. Про Шона Флинна говорят, что это право он толковал весьма расширительно. С детских лет обожая оружие, он больше всего ценил «узи» — и, судя по всему, проверял его в деле — и якобы держал на квартирах в Сайгоне и Дананге пластическую взрывчатку в количестве, достаточном, чтобы с лица земли исчезла целая деревня.
Принимая во внимание то, что Шон был оператором «кислотного» фильма Жан- Жака Лебеля и Ги Жоба «Нормальное состояние» (1967), не будет слишком смелым предположить, что ребята могли захватить с собой что-нибудь на десерт. Не зря же коллеги прозвали их «беспечными ездоками». Хотя их последняя экспедиция достойна кисти не Денниса Хоппера, а Копполы.
На мотоциклах, обвешавшись оружием, возможно, что и с психоактивными веществами... Нормальное состояние. Ну конечно, только так и надо отправляться на свидание с «красными кхмерами». Короче, «беспечных ездоков» больше никто не видел.
В тот же день, 6 апреля, в Камбодже бесследно исчезли Жиль Карон с двумя спутниками и еще два журналиста. И это был еще не рекорд: 31 мая пропадут 8 корреспондентов, а всего за 1970 год — 25. Во Вьетнаме журналисты погибали, здесь — испарялись.
Очевидно, большую часть из них убили «красные кхмеры», единственная национально-освободительная группировка в мире, которая уничтожала всех посторонних наблюдателей. Обычно этим отличались ультраправые режимы. Хотя точнее сказать, что Флинн и Стоун исчезли в «черном ящике». Поскольку «красные кхмеры» были непроницаемой вещью в себе. Достаточно сказать, что и личность человека, известного под именем Пол Пот, до сих пор не установлена со стопроцентной достоверностью.
***
Как Освенцим перестал быть метафорой государственного террора со смертью Майнса, так и выражение «поколение Освенцима» было не метафорой, а констатацией факта. Кто-кто, а оператор Ганс Эртль безусловно принадлежал к нему. Великий Эртль. Кудесник горных, подводных, спортивных съемок, автор множества технических изобретений. Любовник Лени Рифеншталь, соавтор ее «Олимпии» (1938) — он руководил операторской группой фильма. Дерзкий альпинист, храбрый фронтовой оператор, высоко ценимый самим Роммелем.
В 1948 году Эртль обосновался в Боливии: Южная Америка приютила многотысячную диаспору нацистов. В 1951 году неподалеку от него поселился Клаус Альтман, ставший чуть ли не названым братом Ганса. Альтманом именовал себя один из самых разыскиваемых военных преступников, начальник лионского гестапо Клаус Барбье, замучивший Жана Мулена, представителя де Голля в оккупированной Франции, ее национального героя; в своей новой жизни — консультант боливийских «горилл», ну и, само собой, агент ЦРУ.
Правда, некоторое время Барбье оставался без настоящего дела. Революция 1952 года хотя и не вывела из нищеты индейцев, крестьян и шахтеров, но на целых 12 лет остановила кару- сель военных переворотов, с которыми Боливия только и ассоциировалась в мире. Зато после военного переворота 1964 года эта карусель завертелась с новой, все более кровавой силой и так и вертелась до 1982 года.
В 1952 году Эртль вывез в Боливию семью, включая 15‑летнюю дочь Монику, арийскую красавицу, «спортивную Лорелею». Отец научил ее меткой стрельбе и операторскому искусству. Она даже сняла «Хито-Хито» (1958), один из двух фильмов отца о девственных лесах в Боливии.
Безутешный Ганс ушел из кино в 1961 году: трактор, на котором он куда-то перевозил все свое профессиональное достояние, упал с моста, погибли любовно сконструированные им камеры и все пленки. Даже суперсовременная камера, подаренная испанской принцессой Изабеллой, не вселила в него сил, достаточных, чтобы вернуться к делу своей жизни. Отныне он посвятил всего себя ферме в 6 тысяч акров, окрещенной «Свободной республикой Бавария», а Моника вышла замуж за человека «своего круга», но вскоре безоглядно разорвала этот круг.
В 1969 году Моника ушла от мужа к Гидо Альваро Передо, называвшему себя Инти — «солнце» на языке кечуа, — а сама стала Имиллой — «Игуаной».
Инти был одним из пяти выживших бойцов боливийского отряда Че Гевары — «Армии национального освобождения». Его старший брат Роберто — «Коко» — сражался вместе с ним и погиб. Инти укрылся на Кубе, вернулся, чтобы возродить АНО, но погиб 9 сентября 1969 года: то ли в бою со 150 солдатами, окружившими его дом, то ли раненый и плененный.
Вторую попытку герильи совершил в июле-ноябре 1970 года его младший брат Чато, но и его отряд был разбит, а сам он чудом спасся.
Третьей герильей стала «Игуана».
1 апреля 1971 года Моника, изменив внешность, под видом немки, подающей прошение о визе, пришла на прием к боливийскому консулу в Гамбурге, полковнику Роберто Кинтанилье. Тремя пулями она расквиталась с тем, кто в свою бытность шефом полиции приказал отрезать руки мертвому Че, позировал с сигарой над трупом ее Инти, а возможно, и сам убил его.
Пистолет ей — характерная деталь эпохи — дал Джанджакомо Фельтринелли. Крупнейший итальянский издатель, первый публикатор «Доктора Живаго» и «Леопарда», имел с Кинтанильей свои счеты. В 1967 году он прилетел в Боливию в надежде связаться с отрядом Че, но был арестован: Кинтанилья допрашивал его.
Вскоре Фельтринелли и сам уйдет на нелегальное положение, создаст «Группы партизанского действия» — о бойцах одноименных групп времен войны де Бозио снял «Террориста» — для вооруженного сопротивления надвигающемуся фашистскому перевороту. 14 марта 1972 году он погибнет, по официальной версии, подорвавшись на собственной бомбе при попытке совершить диверсию на ЛЭП.
За голову Моники объявили награду в 20 тысяч долларов — в пять раз больше, чем за самого Че, — но она вернулась в Боливию. Теперь — за «дядей Клаусом», Альтманом-Барбье. В буквальном смысле слова за ним: Дебре пишет, что Моника собиралась выкрасть его и вывезти на суд во Францию. Но 60‑летний нацист переиграл «Игуану»: 12 мая 1973 года в Ла-Пасе ее ждала засада. Отец мог лишь поблагодарить бога за то, что она погибла мгновенно, в бою.
***
Италия
1
1970-е годы — сплошное торжество похорон. Не там, где идёт настоящая война: в Палестине или Бангладеш не до похорон. И не там, где государственный террор обретает истребительный характер: в Индонезии, Аргентине или Сальвадоре люди пропадают без вести или валяются на обочинах, и никто не решается похоронить их.
Похороны фокусируют время там, где качество террора компенсирует его количество. Насилие, ворвавшееся в повседневность, затем отступает и таится, даёт время на похороны и ритуальные клятвы над гробом.
Даже городские партизаны имеют возможность отдать последние публичные почести своим павшим. На похоронах бойца ольстерской ИРА или баскской ЭТА из кучки или толпы скорбящих — то есть ниоткуда — делают шаг вперед парни в пассамонтаньях и коротко салютуют, чтобы вновь раствориться среди заплаканных женщин и стариков.
Нигде в Европе эти годы не были такими свинцовыми, как в Италии.
В повседневную речь вошло слово la strage — «бойня»: семидесятые измеряются промежутками от бойни до бойни.
Нигде в Европе свинцовые годы не были — словно любовь итальянцев к театральным и оперным эффектам сильнее и жизни, и смерти — обрамлены такими похоронами, как в Италии.
Италия хоронила людей, умерших своей смертью. Но кажется, что их убило что-то страшнее пули. Может быть, воздух эпохи.
Улицы Рима затоплены миллионом скорбящих, Лукино Висконти в почётном карауле, коленопреклонённая Леа Массари. Эти сцены сохранены в «Италии с Тольятти» (1964), фильме 12 режиссёров, среди которых Валерио Дзурлини, Франческо Мазелли, братья Тавиани. И Карло Лидзани, самый первый фильм которого (снятый с Базилио Франчиной) назывался «Тольятти вернулся» (1948).
Ведущие (да и не ведущие тоже) режиссёры Италии — коммунисты. Вообще все итальянские интеллектуалы и художники — коммунисты. Даже если не оформили свои отношения с партией, даже если хлопнули дверью в 1956 году, даже если изгнаны за «совращение несовершеннолетних», как Пазолини.
В марте 1944 года Сталин отправил Тольятти на родину с такой же миссией, с какой в ноябре вернет Тореза во Францию. Миссией, почти самоубийственной для вождей, всю войну отсиживавшихся в Москве.
И в Италии, и во Франции компартии располагали собственными обстрелянными и рвущимися в бой армиями. И там и там мировая война превратилась в гражданскую войну «красных» и «чёрных». В планы ни «Гарибальдийских бригад», ни французских «франтиреров и партизан» вовсе не входило разоружение. Они уже подняли красные флаги над заводами, хозяева которых — коллаборационисты или «чернорубашечники» — ушли в бега, а в южной Италии ещё и поделили помещичьи земли. Они уже совершили немало актов революционного правосудия и свели немало совсем не революционных счётов. Они вынесли главную тяжесть Сопротивления: у ФКП титул «партии расстрелянных». Они не хотят останавливаться, они готовы прямо сейчас установить социализм.
Но Тольятти и Торез мановением руки остановили — воля Сталина — свои вооружённые партии. Сталин рассчитывает на долгое мирное сосуществование с союзниками и намерен честно соблюдать договоренности о сферах влияния: Западная Европа — «не его», ему достаточно равноправия коммунистов с иными партиями.
Тольятти пришлось труднее: во Франции есть хотя бы антифашистская власть де Голля, а в Италии, куда ни плюнь, одни фашисты. И стрельба в «красных» районах продолжается ещё долго.
Но Тольятти, получивший портфель министра юстиции, демонстративно освобождает арестованных фашистов и удерживает партию даже тогда, когда эти освобождённые фашисты начинают сами арестовывать партизан за «преступления» времён войны.
«Никому не двигаться», — первое, что сказал партии Тольятти, придя в сознание после совершенного на него покушения в июле 1948 года. И никто не двинулся — всеобщая забастовка и уличные столкновения не в счёт, — гражданской войны не случилось, как и в мае 1947 года, когда ИКП — на пике её популярности и численности (2 252 446 членов) — вышвырнули из правительства, нарушив все возможные договоренности; та же коллизия разыгралась во Франции.
С тех пор главная драма итальянской политики — это то, что ИКП не пускают в правительство, хотя она получает — на новом пике численности (1 814 262 члена) — на выборах 1976 года 34,4% голосов, и без неё невозможно создать стабильный кабинет министров. Поэтому Италия живёт в состоянии перманентного правительственного кризиса. Идеальная почва для гражданской войны.
А ведь в сороковых до конца никто так и не разоружился. Припрятанное оружие войны внесло свою свинцовую лепту в семидесятые.
Похороны Тольятти на экране — чисто протокольные кадры. Но когда Пазолини включил их в «Птиц больших и малых» (1966), Тавиани — в «Подрывные элементы» (1967), Ренато Гуттузо — в свои картины, они вернули себе эмоциональную мощь, ощущение зияющей потери.
Италия словно почувствовала тогда, в 1964 году, что прощалась с единственным человеком, способным так приказать: «Не двигаться», что никто не посмеет его ослушаться.
Старшему поколению — «официальным» коммунистам — наверное, и хотелось поквитаться с фашистами, освобождёнными Тольятти, но делать это надо было немедля — не через двадцать же лет. Беда в том, что «новому левому» поколению предстояло столкнуться с теми же самыми фашистами, которые, напротив, полагали, что взять реванш никогда не поздно.
* * *
Ещё фильм: «Прощание с Энрико Берлингуэром» (1984). Вождь итальянской компартии в 1972–1984 годах был не догматиком, но страстным «еврокоммунистом». На его секретарство пришёлся почти весь свинцовый кошмар. Он умирал патетически и жутко — ему стало плохо прямо на трибуне митинга, на глазах у кинокамер. Его похороны снимал уже 41 режиссёр всех поколений: Роберто Бениньи, Бертолуччи, Монтальдо, Понтекорво, Скола, Паоло Пьетранджели…
Берлингуэр не мог остановить тех, кто ринулся в бой, он отрёкся от «авантюристов» и навлёк на себя и партию обвинения в предательстве дела революции.
* * *
Между этими похоронами Италия видела много других. Не раз и не два вереница людей тянулась, как в «Днях Брешии» (1974) Луиджи Перелли, мимо гробов или десятков гробов с телами ничем не знаменитых жертв террора.
В 1969–1985 годах политическое насилие унесло свыше 460 жизней. Не считая 1000 жертв «второй мафиозной войны» на Сицилии: мафия, связанная с правящей Христианско-демократической партией (ХДП), часто выполняла политические заказы.
Для всего мира символ тех лет — «Красные бригады» (BR), но на совести всех (а их было немало) леворадикальных групп — около 130 жертв точечных покушений. Да и то: терпению «нетерпеливых» можно только позавидовать. Дебютировав актами вандализма в Милане в октябре 1970 года, первое убийство «бригадисты» совершили в июне 1974 года, застрелив — в порядке самообороны — двух неофашистов из Итальянского социального движения, в штаб-квартиру которого «красные» проникли ночью в поисках документов. Первое умышленное убийство — генерального прокурора Франческо Коко — ещё через два года.
Больше всего крови прольётся, когда на смену первому поколению BR придут второе, сражающееся за освобождение уже арестованных основоположников, и третье, по массовому убеждению, начинённое, а то и руководимое провокаторами.
Паранойя? Конечно: общенациональная, отражённая в зеркале параноидальных триллеров о заговоре — не просто всеобъемлющем, но почти оккультного толка («Сиятельные трупы» Рози, 1976). О заговоре, тайная цель которого — кровавый хаос. Впрочем, явная — тоже.
У нации были причины сходить с ума.
2
Я знаю.
Я знаю имена тех, кто несёт ответственность за то, что называется военным переворотом (на самом деле, этих переворотов было несколько, и все они были направлены на укрепление власти).
Я знаю имена тех, кто несёт ответственность за гибель огромного числа людей в Брешии и Болонье в 1974 году. <…> Я знаю имена всех, я знаю все факты (попытки подорвать конституционную власть и массовые убийства), за которые они должны понести ответственность.
Я знаю. Но у меня нет доказательств. У меня нет никаких намёков на доказательства (Пазолини, 1975).
3
«Первым террористическим актом в новейшей истории Италии», хотя следствие настаивало на ошибке пилота, экс-премьер Аминторе Фанфани назвал крушение 27 октября 1962 года под Миланом самолёта, на котором возвращался — в обществе корреспондента Time-Life Уильяма Макхэйла — из сицилийской Катании 56-летний Энрико Маттеи.
Незадолго до этого Индро Монтанелли возмущался в Il Corriere della Sera:
Маттеи ведёт переговоры с иностранными правительствами напрямую, в частности, с русским правительством, накладывая обязательства на итальянское государство. Он отдаёт приказы нашим послам за границей. Не знаю, все ли отдают себе отчёт, до какой степени он перешёл все границы. Но, я думаю, ни в одной западной стране ничего подобного не происходило со времён феодализма.
КРУПНЫЙ ПЛАН: ИНДРО МОНТАНЕЛЛИ
За 70 лет литературной и журналистской работы из 92, прожитых им, Монтанелли, которого иногда называют «величайшим итальянским журналистом», завоевал репутацию «честного правого». Читателей он призывал голосовать, конечно, за христианских демократов, но «зажав нос». В 85-летнем возрасте он рассорился с Сильвио Берлускони, собравшимся в политику хозяином газеты IlGiornale, где Монтанелли работал, заявив ему: «Я уже знал одну провиденциальную личность, и этого мне хватило».
«Провиденциальной личностью» для молодого фашиста Монтанелли был Муссолини.
Поклонник Киплинга, Монтанелли добровольцем воевал в Эфиопии, где женился на 12-летней девочке и сочинял тексты, почти пародийные в своём оголтелом расизме.
Но на войне в Испании он в фашизме разочаровался, чего не скрывал: его исключили из партии и от греха подальше сослали директором итальянского культурного центра в Эстонии. Побывав чуть ли не на всех фронтах мировой войны, включая Финляндию и Норвегию, он к 1944 году оказался уже в рядах Сопротивления. Арестованный гестапо и приговорённый к смерти, он бежал.
Из этого опыта родился роман Монтанелли «Генерал делла Ровере» и поставленный по нему фильм Росселлини (1959), которым писатель остался недоволен. Пьесу «Мечты умирают на рассвете» (пять иностранных журналистов блокированы в будапештском отеле в дни мятежа (Монтанелли побывал и на этой войне): один уходит жечь советские танки с прекрасной мятежницей; другой, коммунист, связанный с посольством СССР, причастен к пленению Имре Надя) он никому не отдал, экранизировав её лично (1961), хотя и в соавторстве с ветеранами фашистского кино Марко Кравери и Энрико Грасом.
2 июня 1977 года Монтанелли как «раб монополий» подвергся gambizzazione — жестокому наказанию, практиковавшемуся BR: ему три раза выстрелили по ногам, когда он шёл в редакцию.
Монтанелли не воспользовался пистолетом, который носил при себе, а только кричал в спину убегавшим стрелкам: «Трусы! Трусы!»
Легендарная честность Маттеи — казначей Сопротивления, он не украл у партизан ни лиры, чем потряс Италию до глубины души, — гарантировала успех наглого блефа, с которого начался его взлёт. Назначенный в 1946 году директором-ликвидатором бесперспективной нефтяной компании, он убедил правительство создать на её основе ENI для обеспечения энергетической безопасности Италии. Запасы нефти и газа, которыми как сугубой реальностью козырял Маттеи, ещё не были найдены, но потом их, однако же, нашли, как и колоссальные египетские запасы, — после того как Маттеи заключил и год скрывал от правительства договор с Насером.
Кондотьер, патриот, игрок, он рисково, агрессивно и успешно атаковал «семь сестёр», англо-американские компании, подмявшие мировой нефтепром. Отбивал у них целые сектора рынка: иранскую концессию он получил, играя на обиде шаха на англосаксов, ворковавших с изгнавшим самодержца из страны премьером Моссадыком.
Соблазнял правителей третьего мира немыслимо выгодным для них распределением прибыли: не 50 на 50, а 75 на 25 процентов. Замахнулся на строительство циклопической «трубы» — качать нефть с Урала на его перерабатывающие заводы в обмен на итальянские товары для СССР.
Терпение «семи сестёр» не могло не лопнуть, и не только их терпение. OAS и — есть такая версия — лютые враги OAS из «Красной руки» Мельника одновременно вынесли ему смертный приговор: они были уверены, что Маттеи вооружал ФНО. Может, и не вооружал, а «просто» снабжал горючим. Но с ФНО его связывали совсем особые отношения: его всем сердцем полюбил (и пролоббировал его интересы перед ливийским королём Идрисом) «алжирский Берия» Буссуф, убийца Абана Рамдана.
Маттеи обучал в школах ENI кадры для алжирской «нефтянки». Но что самое главное и непростительное, он подготовил для алжирской делегации в Эвиане исчерпывающее досье по сахарской нефти, включавшее данные, которые французы держали в тайне, и самый выгодный для Алжира вариант развития отрасли, лишив французов и козырей, и пространства для манёвра.
В Тунисе и Алжире сидели его агенты — не притворявшиеся журналистами, а действительно крупные и обладавшие политическим весом журналисты Марио Пирани и Итало Пьетра.
А секретные французские досье он, по распространённой версии, получал от Салаха Буакуира, единственного мусульманина в правительстве генерал-губернаторства, где он заведовал департаментом экономики и индустриализации. Алжирцы до сих пор спорят, был ли он героем или предателем. Но его смерть в сентябре 1961 года — говорят, что его утопили оасовцы, — подтверждает репутацию двойного агента.
Неоколониализм мешал бизнесу Маттеи, и когда французы пытались перетащить его на свою сторону, посулив концессии в Сахаре, он отчеканил:
Я не пойду в страну, сражающуюся за независимость.
В Алжире он собирался побывать ещё до конца 1962 года.
Ещё он должен был встретиться с Кеннеди и наверняка очаровать его.
«Проклятьем заклеймённый» был не первым кинопроектом Маттеи. В 1959 году, готовя резкий вираж в сторону СССР, он задумал рекламный фильм об ENI «Италия — не бедная страна». Подразумевалось: Италия неимоверно богата углеводородами и припеваючи проживёт без иностранного капитала.
Для съёмок Маттеи ангажировал не кого-нибудь, а Йориса Ивенса, старого коммуниста: даже преклонный возраст не избавит его от репутации опасного смутьяна — в 1969 году 71-летнего Ивенса вышлют из Флоренции. Но сейчас он работает не просто на капиталиста — на мирового олигарха. Сценарий пишут братья Тавиани и Орсини, текст — Альберто Моравиа. Телевидение откажется показать полную версию фильма: «слишком грубый образ Италии».
Фильм действительно странный.
Олива, крестьянская кормилица, уподобляется стальным вышкам на газовых разработках.
Лекции об образовании нефтяных пластов и производстве искусственного каучука перетекают в историю нового Ромео, уходящего со своей Джульеттой навстречу счастью — добывать газ. Уличный певец поёт на Сицилии о том, что атомная энергетика несёт людям и счастье, и горе, а семилетняя девчонка на рыбацкой свадьбе — хриплый рок-н-ролл. На ночном заводе механизмы разговаривают с мальчиком.
В 1967 году — Маттеи мёртв, его преемник, инженер Сефис, откорректировал геополитические приоритеты предтечи — 155-минутный «Нефтепровод» во славу транспортировки нефти из Ирана снимет по заказу ENI Бертолуччи, только что сделавший фильм с грозно-нетерпеливым названием «Перед революцией» (1964).
В 1970 году Франческо Рози, приступая к работе над «Делом Маттеи» (1972), эталонным фильмом-досье, просит журналиста Мауро Де Мауро, знакомого со времён съёмок «Сальваторе Джулиано» (1962), покопаться в последних днях Маттеи, проведённых им на Сицилии.
У Мауро прошлое не просто фашиста: он был заместителем шефа полиции республики Сало, почти эсэсовцем, возможно, участником страшного преступления — убийства 335 римлян-заложников в Ардеатинских пещерах (март 1944 года). Но суд его оправдал, он работает в левой газете L’Ora, ненавидит мафию — Муссолини её тоже ненавидел — и хотя заведует спортивным отделом, отменно и отважно расследует её деятельность.
Он раздобыл кассету с последней речью Маттеи и, надо полагать, нашёл некий ключ. Но на восьмой день расследования, 16 сентября 1970 года, Мауро по возвращении с работы ожидали у дома трое мужчин. После краткого разговора он сел с ними в машину и исчез. Похищение — тем более вендетту — это не напоминало: скорее, жертву поманили некой информацией.
Другой консультант Рози, журналист и писатель Микеле Панталеоне, эксперт по мафии, только что уцелевший в третьем за несколько лет покушении, полагал: Мауро предложили аудиенцию у Лучано Леджо, главы клана Корлеонезе. По его версии, Маттеи отказался дать долю мафии в возведении на Сицилии заводов, и она объединилась против него с ЦРУ.
Заговор в ближнем круге Маттеи, о котором мог прознать Мауро, подозревал Итало, брат Энрико: Маттеи якобы вызвали на Сицилию — где проще, чем в Милане, заминировать самолет — под надуманным предлогом.
Инспектор Борис Джулиано, расследовавший дело Мауро вместе с опергруппой из Рима, расскажет потом, что следствие саботировал глава секретной службы Вито Микели, находившийся на содержании у Киссинджера. Его арестуют за участие в неофашистском заговоре, а Джулиано расстреляют в баре 21 июля 1979 года. Но на Сицилии и помимо дела Мауро всегда найдётся миллион причин убить полицейского. Как убили под Палермо 23 мая 1992 года, взорвав с женой и тремя телохранителями, Джованни Фальконе. Это ему Томмазо Бускетта, первым из крестных отцов преступивший омерту, рассказал, что Мауро убила мафия по просьбе американских коллег, как убила и Маттеи, наносившего ущерб интересам США на Среднем Востоке.
Даже в контексте итальянской паранойи чем-то за гранью безумия кажутся, но не ослабевают с годами, слухи о том, что Пазолини погиб, слишком много узнав о деле Маттеи.
Последнее их обострение пришлось на март 2010 года — одновременно с возобновлением расследования гибели режиссёра. По словам сенатора Марчелло Дель Утри, на открытии выставки, посвящённой Курцио Малапарте, незнакомец показал ему и предложил купить финальную главу последнего романа Пазолини «Нефть», озаглавленную «Свет на ENI», похищенную убийцами. После чего, естественно, больше не давал о себе знать.
Источники: